Известно, когда идет война – льется кровь, после войны – льются чернила. В бою чаще всего гибнут лучшие, потому что не прячутся за спины ребят, а оставшиеся в живых тыловики превращаются в героев благодаря словоблудию и искажению фактов.
Пример тому, командующий Красной Армией Нижнего Амура Яков Иванович Тряпицын, о деятельности которого писали как большевики, так и их противники. Разумеется, подача материала, у авторов по разные стороны баррикад, была тенденциозной…
Победа партизан над белогвардейцами и японцами, кровавая провокация интервентов, поджог Николаевска-на-Амуре, - в центре этих событий значится фамилия Тряпицына…
Яков Тряпицын, который из партизанского отряда в 19 человек смог довести численность Красной Армии Нижнего Амура до нескольких тысяч, сформированных в пять полков, имевшей артиллерию, катера и пароходы. Он уничтожил всех японцев в Николаевске-на-Амуре и белогвардейцев от Хабаровска до Сахалина, а когда был вынужден оставить Николаевск, провел эвакуацию населения в таежные районы, а порт и город сжег, чтобы японцы не могли организовать около устья Амура военно-морскую базу.
Этого человека яростно обливали грязью японцы за то, что он опозорил непобедимую императорскую армию, белогвардейцы – за то, что уничтожил контрреволюционные вооруженные силы на Нижнем Амуре и восстановил Советскую власть, а большевики обвиняли его в анархизме…
Так все же кто он: герой или бандит?
Яков Иванович родился в 1898 году, в семье ремесленника-кожевника из Устюга Великого… Был высокого роста, хорошо сложен, весьма привлекательной внешности, с серьезным лицом и серыми пронзительными глазами, мягкой, располагающей улыбкой. Отличался решительностью и бесстрашием.
Во время Первой мировой войны вольноопределяющим пошел на фронт и был произведен в прапорщики. Награжден двумя Георгиевскими крестами. В октябре 1917 года Кексгольмский лейб-гвардейский полк, в котором служил Тряпицын, выступил на стороне большевиков, но это не помешало ему после смуты вступить в Красную Гвардию и принять участие теперь уже в подавлении Самарского мятежа. В 1918 году Тряпицын арестован белыми в Иркутске. После побега из тюрьмы, он прибыл в Приморье, где некоторое время был простым бойцом в отряде Шевченко. Из-за разногласий в вопросах партизанского движения, он с небольшим отрядом перешел в район Имана и действовал практически самостоятельно. Летом 1919 года около тридцати человек под командованием Тряпицына участвовали в операциях в районах железнодорожных станций Кругликово и Верино.
В 2 часа ночи 10 ноября 1919 года отряд Тряпицына выступил из села Вятского. Так начался поход вниз по Амуру, с конечной целью – освобождением Николаевска-на-Амуре. В селе Малмыж произошла встреча с отрядом Мизина. Отряд хотя и назывался мизинским, но на тот момент, им командовал Оцевилли-Павлуцкий. После того, как каратели сожгли с. Синда, партизаны переизбрали Мизина, и, тем не менее, после объединения отрядов, он стал заместителем Тряпицына.
При приближении партизан к населенным пунктам, колчаковская милиция обычно разбегалась. Вот в станице Киселевка было около сотни казаков и, чтобы избежать кровопролития, Тряпицын лично отправился на переговоры с атаманом, предложив ему сдать станицу без боя, гарантируя жизнь и безопасность всем сдавшим оружие. Но казаки предпочли бежать. Вслед им был отправлен отряд лыжников, который нагнал отступающих казаков…
23 ноября 1919 года партизаны заняли Сухановку и Циммермановку. Но 26 ноября конная группа партизан в районе почтового станка Пульса попала в засаду. Разведкой было установлено, что отряд белых достигает 120 штыков, у партизан же к тому времени было уже около 160 человек. Стали готовить оборону Циммермановки: отрыли снежные окопы, в стенах амбаров и сараев проделали бойницы. Удача была на стороне красных. Метким огнем стрелки вывели из строя пулеметные расчеты белых…
Теперь партизаны продвинулись до Калиновки. Узнав о разгроме белых, начальник Николаевского гарнизона Медведев мобилизовал у населения подводы, посадил в них солдат и добровольцев из числа местной буржуазии, выслал отряд во главе с полковником Вицем в помощь белым. Виц решил закрепиться в селе Мариинском, избрав его местом сосредоточения всех белогвардейских сил.
Вновь, чтобы избежать кровопролития (или попытаться заработать дешевый авторитет среди партизан?), Тряпицын отправился в распоряжение белых для переговоров. Появление командующего партизанского движения оказало на солдат сильное психологическое воздействие. Тряпицын передал им письма и рождественские подарки от родственников. На предложение сдаться, Виц ответил отказом, но, понимая, что располагает меньшими силами, отдал приказ отступать в бухту Де-Кастри, поскольку путь на Николаевск был отрезан. Однако приказ выполнили лишь немногие, основная масса восстала и перешла на сторону партизан.
Таким образом, силы партизан достигли почти полторы тысячи бойцов. Отдельные отряды даже свели в два полка. Одним стал командовать Бузин-Бич, другим Наумов-Медведь. Кроме того, были созданы вспомогательные части: связи, снабжения, медико-санитарная и транспортная. В частях вводилась жесткая воинская дисциплина. Всюду, где прошли партизаны, восстанавливалась Советская власть.
В Николаевске среди белогвардейцев царила растерянность и паника. Начальнику гарнизона Медведеву удалось сколотить отряд лишь в 250 человек. Вся надежда местной буржуазии была на японцев. Майор Исикава, командовавший японскими войсками в городе, решил встретить партизан на подступах, но просчитался. Уже к 20 января 1920 года партизаны окружили Николаевск. Стремясь избежать напрасного боя, командование решило послать в город парламентеров… Они не вернулись, этим японцы и белогвардейцы поставили себя вне закона.
Убедившись, что город не будет сдан без боя, партизаны для начала овладели крепостью Чныррах, прикрывавшую Николаевск с моря, а 29 февраля 1920 года вошли в город. Под давлением представителей различных консульств японцы вспомнили о декларации генерал-лейтенанта Сирамидзу о соблюдении японской армии нейтралитета. Власть перешла к Советам. Однако в ночь с 11 на 12 марта 1920 года японцы предательски напали на части Красной Армии. Окружив штаб, они подожгли ракетами здание и открыли по нему ружейно-пулеметную стрельбу. По всему городу вели огонь по казармам. Тряпицын был дважды ранен и просил товарищей пристрелить себя, но его спасли.
Бои в городе продолжались три дня и закончились, когда в одном из домов квартала японского миллионера Симады сгорела группа японцев вместе с майором Исикавой.
После победы над японцами жизнь в Николаевске пошла своим чередом. Тряпицын был назначен командующим Охотским фронтом… Приказ о назначении (№ 66 от 22 апреля 1920 г.) на такую высокую должность подписал главнокомандующий Народно-Революционной армией (НРА) Эйхе…
Японцы, разгромив революционные вооруженные силы в Приморье и Хабаровске, готовились с началом навигации направить канонерские лодки и крейсеры для занятия Николаевска. Кроме того, десант был высажен на Сахалине и в Де-Кастри. Город начал готовиться к обороне.
На северном фарватере лимана, красные затопили баржи, груженные камнями, около с. Софийского поставили подводные мины, а в устье Амгуни около Тырского утеса – батареи. Но, поняв, что город не удержать, 10 апреля 1920 года решили произвести эвакуацию в Керби (п. им Полины Осипенко) за полтысячи километров от Николаевска, в глубь тайги. 30 мая 1920 г. эвакуация города была завершена и в ночь на 1 июня Николаевск запылал…
Гражданское население и раненые были доставлены в Керби пароходами. Бойцы Красной Армии весь путь проделали пешком. Вот как описывает этот путь в книге “Волочаевка без легенд” Г. Лёвкин: “Участник этого похода Трушенко вспоминал, что шли, огибая озера Чля и Орель, в направлении на Кульчи (“Якутское собрание”). Шли по марям, вязли во мхах и воде выше колена. Продукты кончились. Проводники бежали. Член Ревштаба и Исполкома Перегудов и братья Чупрынины нашли в тайге спрятанную муку, это в определенной степени спасло группу от голода. С едой было плохо. Тряпицын с небольшой группой ушел вперед, чтобы попытаться достичь жилых мест и решить вопрос с продовольствием. В это время молодой партизан Михаил Ларич и один латыш разделили на всех вьюк (поклажа. –Авт.) с неприкосновенным запасом шоколада, заявив, что Тряпицын не вернется. Но Яков Иванович возвратился, узнав о съеденном “НЗ”, потребовал к себе виновных. Латыш сбежал в тайгу, понимая, чем может закончится этот вызов, а Ларич предстал перед командиром. Тряпицын приказал его расстрелять, но никто этого делать не захотел. Тогда в присутствии всего отряда и штаба Тряпицын лично застрелил Ларича”.
Измотанные до предела люди только на 21-й день вышли к р. Амгуни в районе Красного Яра, у Херпучинских приисков. Тряпицын с кавалеристами отправился в Благовещенск за продовольствием, предварительно организовав оборону, расположив войска заградительными отрядами. Однако бывшие белогвардейцы, стоявшие на командных должностях стали саботировать приказы Тряпицына. Мятеж поднял взвод сахалинцев, потребовав отрядного собрания и принятия безотлагательных мер, так как по Амгуни шел террор, расстреливали людей. На скором собрании было решено выступить против Тряпицына.
Арест Тряпицына должна была произвести специальная группа из семи человек. Они прибыли на пароход “Амгунец”, часовому был показан пакет с сургучными печатями, и пока он его рассматривал, в каюту Тряпицыну постучались, тот спокойно открыл дверь. На командующего направили револьверы и объявили, что он арестован. Тот принял сообщение с усмешкой, сказав: “Это мне не впервой. Кто поднял бунт? Довольно шутки шутить”.
Мятежники торопились. Просто убить командующего они не посмели, поэтому организовали суд, который вошел в историю под названием - “суд 103-х”. Он состоялся 7 июля 1920 года в поселки Керби, решение принималось простым голосование толпы. Вердикт: расстрел. После этого, суд разбежался и пришлось дважды созывать военные трибуналы. Уже после исполнения приговора, в Никольске-Уссурийском на партийной конференции Тряпицыну утвердили приговор на расстрел за измену Советской власти…
Кербинская трагедия самосуда и казни военачальника, пропаганда, направленная на умаление его заслуг – одна из первых акций против Советской власти под знаменем преданности Советам…
---------------------------------------------------
Отрывок из книги «Годы и друзья старого Николаевска» Сборник очерков и новелл о Николаевске. В.И. Юзефов. 2005
Исчезнувший город
Эта глава посвящена самой черной, самой трагической странице летописи Николаевска-на-Амуре, тем дням, когда, согласно решения тряпицынского военного революционного штаба, город был полностью сметен с лица земли. Мы не будем останавливаться здесь на личности лихого командующего партизанской Красной Армии (так она называлась официально) Я. Тряпицына и всех его «подвигах». Об этом периоде в истории гражданской войны на Дальнем Востоке, особенно в последние годы, написаны десятки исторических публикаций и диссертаций, воспоминаний и мемуаров, опубликованы новые архивные документы. Мы остановимся подробно только на одном его черном деле, к сожалению, не вошедшем в обвинительное заключение по его судебному процессу, — преднамеренном уничтожении целого российского города.
Правда, во время предварительного судебного заседания председатель Воробьев задал по этому поводу Тряпицыну вопрос: «Почему и по чьему распоряжению сожжен город Николаевск»? На что тот ответил: «По распоряжению военревштаба и согласно телеграммы Янсона следующего содержания: «Вы должны во чтобы то ни стало удержать Николаевск, Этим вы оказываете неоценимую услугу советской России. В противном случае ответственность падет на вас». Но ведь в телеграмме Янсона не было никаких указаний на уничтожение самого города. И все-таки, почему же Николаевск был сметен с лица земли, причем руками красных партизан? А может это сделали, как нам много лет втолковывали, не партизаны, а японские оккупанты? А возможно партизаны не уничтожали сам город, а ограничились только военными объектами? Я постараюсь ответить на данные вопросы.
Изучая историю родного города, мне приходилось встречаться со старожилами и ветеранами гражданской войны на Нижнем Амуре, изучать архивные документы и научные публикации и, невольно, касаться вопросов, связанных с николаевскими событиями 1920 года. В результате, я пришел к выводу, что решение об уничтожении Николаевска было не скоропалительным, принятым в последние дни перед уходом из города, а вполне осознанным и целенаправленным.
Известно, что подготовка к этой акции началась с середины мая 1920 г., когда на заседании военревштаба Тряпицын настоял на уничтожении Николаевска, говоря, что «для иностранных государств будет очень показательно, если мы сожжем город и все население эвакуируем». Судьба старейшего в Приамурье города была решена. По заданию штаба составлялись списки городских построек, которые нужно было уничтожить в первую очередь. В деревянные дома, как жилые, так и служебные, завозились бидоны и банки с керосином. Причем под страхом расстрела жильцы должны были хранить их как зеницу ока. В те же дни (20—27 мая 1920 г.) в каменные здания города для их подрыва были доставлены артиллерийский порох, снаряды и фугасы, которые должны были ждать своего часа — своеобразного «часа ИКС». К моменту ухода из города (29 мая) Военрев штабом были созданы своего рода «зондеркоманды» — группы поджигателей и взрывников, которые 30 мая приступили к своему черному делу. Тряпицын не скрывал факт уничтожения старого города, и перед уходом в тайгу в своей радиограмме, посланной в полдень 1 июня, он оповестил об этом весь мир. Через 15 минут после отправки этой телеграммы в эфир николаевская радиостанция, одна из крупнейших на Дальнем Востоке, взлетела на воздух...
Приводим начало этой радио граммы: «Всем органам власти на Дальнем Востоке и Российской Федеративной Советской Республики. Говорит радиостанция RNL из Николаевска-на-Амуре. 1 июня 1920 год. Товарищи! В последний раз говорим с вами. Оставляем город и крепость, взрываем радиостанцию и уходим в тайгу. Все население города и района эвакуировано. Деревни по всему побережью моря и в низовье Амура сожжены. Город и крепость разрушены до основания, крупные здания взорваны. Все, что нельзя было эвакуировать и что могло быть использовано японцами, нами уничтожено и сожжено. На месте города и крепости остались одни дымящиеся развалины, и враг наш, придя сюда, найдет только груды пепла…». Радиограмма подписана командующим округом Тряпицыным и начальником штаба Лебедевой. Так что сам факт уничтожения старого города у устья Амура красными партизанами при их отступлении уже не вызывает никаких сомнений. Но до сих пор трактуется это событие совершенно по-разному, то есть одни исследователи ставят его в вину Тряпицыну и К., другие — оправдывают этот факт высокими целями.
Надо сказать, что адвокатов у отчаянного нижнеамурского диктатора, начиная с 20-х годов прошлого века и по настоящее время, не убавилось, и по-прежнему они оправдывают уничтожение Николаевска высокими политическими и военно-стратегическими задачами. Для примера я возьму только двух из них И.И. Жук-Жуковского и Г.Г. Левкина.
Жук-Жуковский — идеолог амурских максималистов в 1922 г. в городе Чите издал книгу «Н. Лебедева и Я. Тряпицын», На странице 74-ой автор пишет: «Ревштаб мыслил уничтожить в городе только большие каменные постройки, чтобы ими не воспользовались японцы. В уничтожении же города вообще главное участие приняли провокаторы и хулиганы-белые». Правда, спохватившись, на следующей странице он уже оправдывает уничтожение города вообще: «…С точки зрения беспощадной борьбы с классовым врагом, с точки зрения социалистической революции и самозащиты трудящихся этот поступок (Ю. В. — уничтожение города) не только нужен, но он необходим и целесообразен. Это высшее проявление революционного героизма, ибо там, где гибнут тысячи жизней, где свищут вражьи пули и льется горячая кровь — можно ли сожалеть о нескольких сотнях разрушенных построек, созданных руками самих же трудящихся, которые в опасный момент могут быть использованы врагом против революции и свободы? Лес рубят щепки летят! Николаевск времен партизанщины для России — это Париж времен Коммуны для Франции!».
Но если Николаевск — это Париж времен Коммуны, то Тряпицын — это Робеспьер? Не так ли? И все-таки надо от дать должное господину Жук-Жуковскому (в середине 20-х годов он эмигрировал в США), который, в общем-то, оставался честным человеком — в своей книге он приводил довольно много фактов и документов, которые можно трактовать явно не в пользу Тряпицына. Правда, он их никак не комментировал, как другие документы и факты. Но это было его право...
А вот современные апологеты Тряпицына пошли дальше. Что только не придумывается, что бы оправдать преступления николаевского командующего. Даже выдумали мифические бомбардировки Николаевска японскими самолетами. Давайте обратимся к Г.Г. Левкину, хабаровскому краеведу, почетному члену Географического общества. В последние годы он неоднократно выступал с оправданием уничтожения Николаевска Тряпицыным. В своем очерке «История не терпит верхоглядства» (Сб. «Вестник Сахалинского музея» № 9, 2002 г., стр. 497) он пишет: «Я не хочу останавливаться на вопросе сожжения основных построек в городе и порта перед уходом красных под напором японцев, когда гидросамолеты противника начали бомбардировки. Акция эта не была бессмысленной. Поскольку население уже было эвакуировано, то оставлять врагу зимние квартиры и порт для создания военно-морской базы у устья основной реки Дальнего Востока было бы преступлением». И невольно приходят на память слова: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана...». Да, если можно сопоставить сожженный Николаевск со спаленной Москвой, то Тряпицына не грех сравнить с Кутузовым. Не так ли?
Но давайте остановимся на так называемых бомбардировках Николаевска, которые, надо полагать, ускорили оставление города партизанами и его уничтожение. Господин Левкин пишет:
«После бомбежек Николаевска с гидросамолетов командование партизан, выполняя приказ командующего всеми вооруженными силами ДВР Г.Х. Эйхе от 15 мая 1920 г. не вступать в бои с японскими войсками, эвакуировало население и войска из города в таежные районы на реке Амгуни. Порт и деревянные постройки были сожжены.» (Г. Левкин. «К вопросу о партизанских формированиях на Дальнем Востоке 1920—1922 гг.» // Сб. «Из истории гражданской войны на Дальнем Востоке», Хабаровск, 2000 г., стр. 97)
Все-таки, о каких бомбежках идет речь? Давайте внесем ясность в этот вопрос. Из документов известно, что высадившиеся 14—15 мая 1920 года в бухте Де-Кастри японские войска под командованием полковника Танама имели в своем составе отряд гидропланов для проведения разведывательных полетов (газета «Воля» г. Владивосток от 12 июня 1920 г.). Известно, что, совершая разведывательные полеты из Де-Кастри над Софийском и Мариинском, японские летчики бомбили эти села как места вероятного сосредоточения партизан, бросая гранаты или небольшие авиационные мини-бомбы (А. Пелипас. «Имена из смутного прошлого» // «Приамурские ведомости», 25 октября 1995 г.). Особого урона эти бомбежки не приносили, но моральный эффект был весьма ощутимый. Что касается полетов до Николаевска, то пока японцами не были взяты 23—24 мая Софийск и Мариинск, такие полеты из-за дальности расстояния не могли проводиться. И только захватив эти села, японцы совершили несколько разведывательных полетов в сторону Николаевска. Так как гидросамолеты должны были лететь над руслом Амура, то расстояние в оба конца достигало свыше 500 километров, что для самолетов тех лет было пределом, поэтому летчики брали большой запас топлива и самый минимум вооружения. Вследствие этого первые полеты японских гидросамолетов над городом носили лишь разведывательный характер. И только после взятия оккупантами сел Богородское, Белоглинка, Сусанино, Больше-Михайловское можно было наладить из этих пунктов полеты в район Николаевска для его бомбардировок, но в этом уже не было никакой нужды, т. к. город уже начали уничтожать.
За годы работы директором Николаевского городского краеведческого музея мне не раз приходилось встречаться со старожилами Николаевска и ветеранами гражданской войны на Нижнем Амуре — очевидцами последних дней города перед уходом из него. Некоторые из них подтвердили, что были свидетелями трех-четырех полетов японских самолетов над Николаевском в конце мая 1920 года. Они подтверждали, что действительно среди населения и партизан были разговоры, что японские самолеты бомбили какие-то позиции. Но свидетели этих бомбежек мне не встречались. Старожилы и ветераны называли примерные даты этих полетов 27— 30 мая, т. е. когда город уже эвакуировался. Бомбежки же города с 30 мая были явно бессмысленны, так как город уже полыхал. Я могу предположить, что действительно в период полетов над Николаевском 27—29 мая японские летчики бросали гранаты и бомбочки в расположения партизан, но эти факты были эпизодические и не могли быть одной из причин в принятии военревштабом решения об эвакуации городского населения и уничтожении самого города, как это трактуют защитники Тряпицына.
Я лично считаю, что если бы тряпицынский военревштаб принял решение об обороне города, то это вполне можно было бы осуществить. Во-первых, многие забывают, что подходы со стороны лимана к городу защищала мощная Николаевская (Чныррахская) крепость с ее дальнобойными орудиями, снарядов для которых было в избытке. Патронов и пороха в интендантских складах тоже было навалом. Морских мин для минирования амурских фарватеров насчитывалось в хранилищах около двухсот. Голод защитникам города тоже бы не грозил, т. к. большая часть выловленной и обработанной рыбы в путину 1918 и 1919 годов осталась не вывезенной и из порта, и с промыслов. Запасы муки и крупы, хранящиеся в портовых пакгаузах, исчислялись в десятки тысяч пудов. Так что 4-месячную оборону города (с июня по сентябрь 1920 г.) вполне можно было бы осуществить. Ведь именно об этом писал Тряпицыну уполномоченный Совнаркома по Сибири и Дальнему Востоку Янсон: «Постарайтесь удержать Николаевск в своих руках».
Но, к сожалению, история не имеет сослагательного наклонения. Тряпицынский военревштаб посчитал более обоснованным в военно-стратегическом отношении принять решение об эвакуации населения и уничтожении самого города. К тому же, почему-то защитники Тряпицына забывают, что и другие дальневосточные города, более важные в военно-стратегическом отношении, чем Николаевск, Благовещенск, Хабаровск, Никольск-Уссурийск, Владивосток, Спасск, за период гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке (1918—1922 гг.) переходили из рук в руки от трех и более раз. Однако у уходивших из них в свое время красногвардейцев и красноармейцев, красных партизан и народоармейцев ДВР и их командиров даже не возникало мысли о принудительной эвакуации населения и полном уничтожении этих городов. Да, перед отступлениями взрывались и сжигались военные объекты, артиллерийские позиции, склады с боеприпасами и интендантским имуществом, подвижной состав, мосты. Но никогда не ставился вопрос оставлять за собой голую выжженную землю, потому что, отступая из этих пунктов, наши бойцы твердо знали, что рано или поздно они все равно вернутся сюда. А если же исходить из логики защитников Тряпицына в оправдании уничтожения Николаевска, то можно задать вопрос, что и оккупанты всех мастей, начиная от японцев и кончая американцами, и белогвардейцы — колчаковцы, калмыковцы, молчановцы и прочие так же могли оставлять за собой выжженную землю. Я имею в виду плановое отступление и оставление противнику данного населенного пункта, а не те случаи, когда внезапным военным ударом противник выбивался из своих позиций и оставлял целые города и села с богатыми трофеями. Война есть война, и такие примеры можно найти и у той, и у другой стороны. Я не могу согласиться со сторонниками Тряпицына, которые в его оправдание приводят примеры того, как оккупанты и белогвардейцы в Приморье и Приамурье сожгли несколько сел (например, с. Ивановка Амурской обл.). Сравнение здесь неуместно — ведь эти усмирительные карательные экспедиции интервентов и их пособников белогвардейцев совершались с целью устрашения нашего мирного населения, оказывающего поддержку и помощь красным партизанам. А в нашем случае речь шла о целенаправленном, заранее спланированном уничтожении своего города, чтобы он, якобы, не достался целым врагу. В одном из своих последних номеров (от 28 мая 1920 г.) печатный орган Николаевского военревштаба газета «Призыв» вышла с передовицей: «Пусть груды пепла служат ему (Японии) трофеями».
Но давайте вернемся к господину Левкину оправдывая Тряпицына, он идет на прямую фальсификацию, когда пишет: «Следует лишь добавить, что значительное количество населения города возвратилось осенью в город, и никто не жил в землянках». Жаль, что его не слышат те николаевцы, которые вернулись осенью 1920 года на свои пепелища и в землянках провели холодную и голодную зиму 1920—1921 года. Вообще можно сказать, что Тряпицын свою задачу выполнил — 1 октября 1920 года генерал-Майор Цуно, командовавший японскими оккупационными войсками на Нижнем Амуре, объявил населению Николаевска о выводе отсюда до весны 1921 г. своих войск на Северный Сахалин.
Жители города, а их было несколько сот человек, остались брошены на произвол судьбы без жилья и продовольствия. Причем это была наиболее беднейшая часть населения города, т. к. более состоятельные горожане на зиму 1920—1921 года выехали на Северный Сахалин, в Японию, Китай или во Владивосток. За зиму 1920—1921 года городское кладбище увеличилось чуть ли не в половину. Среди переживших эту страшную зиму был отец моего отчима (т. е. не родной дед) Филипп Бекренев, который много мне рассказывал о тех тяжелых днях, когда подавляющему большинству горожан пришлось провести зиму в землянках или наскоро сколоченных времянках.
Кстати, господин Левкин, чтобы лишний раз убедить, что Тряпицын все-таки город оставил в целости, даже торжественную встречу николаевцами войск народно-революционной армии ДВР 1 октября 1922 года старается обратить в пользу своей аргументации, вопрошая: «Возможно ли подобное (т. е. торжественная встреча горожанами представителей ДВР), если город был стерт с лица земли»?
Так вот дед Бекренев мне разъяснил, почему в октябре 1922 года николаевцы торжественно встретили народоармейцев ДВР, и поведал такую историю, подтверждение которой я нашел впоследствии в воспоминаниях других ветеранов. Оказывается весной 1921 г. в середине мая сразу же за льдом в Николаевск сверху пришел пароход с десантом народоармейцев ДВР. Так как пристать было некуда, пароход встал на якорь посредине бухты и начал готовить высадку десанта. Однако, жители Николаевска, вооружившись чем попало, т. к. оружия партизанами при уходе было брошено в избытке, памятуя «красный» тряпицынский террор, не допустили высадки красного десанта и заставили пароход вернуться в Киселевку, ниже которой проходила разграничительная линия между ДВР и оккупированной Японией территорией Нижнеамурья. Надо сказать, что среди тех, кто лежал на берегу бухты за развалинами с берданками и трехлинейками, не было ни одного капиталиста или крупного чиновника — в основном это был рабочий люд, вроде моего деда. Когда пароход с десантом народоармейцев ушел вверх по реке, только через две недели, после того как Амурский лиман освободился ото льда, японские корабли прибыли на николаевский рейд и беспрепятственно высадили на берег свои части.
Возникает вопрос — почему весной 1921 г. жители города встретили представителей ДВР и НРА, как говорится, в штыки, а через год — в октябре 1922 г. — с цветами? А ответ прост. В 1921 г. еще свежи были в памяти тряпицынский («военный коммунизм» и геноцид, проводимый под лозунгами Советской власти. О проводимой же внутренней и внешней политике ДВР, которая, в общем-то, действовала под опекой РСФСР, нижнеамурцы мало что знали, поэтому и к властям ДВР и к ее НРА было полное недоверие. А ноте 1921 г. по сентябрь 1922 г., удостоверившись, что политика правительства ДВР обращена на подъем дальневосточной экономики и благосостояния населения республики, отношение к ДВР резко меняется. К тому же, на своем горьком опыте познав все «прелести» оккупационного режима японской военщины, нижнеамурцы с такой радостью встретили эмиссара ДВР И. Девяткова и воинов ПРА ДВР. Да и город с мая 1921 г. по сентябрь 1922 г. немного обстроился. Вернулись некоторые рыбопромышленники, торговцы, представители торговых домов «Кунст и Альберс», «Симада», «Чурин» и других. За 1921—1922 гг. были отстроены церковь, универмаги торговых домов «Кунст и Альберс», «Симада», магазины фирмы «Г. Флит», Эккерта и Фреймана, Капонадзе и других и около десятка добротных деревянных рубленых домов.
Но большую часть зарегистрированных строений, в которых проживали горожане, составляли землянки, временные бараки, фаршированные сараи, подвалы и т. д. Поэтому неудивительно, что квартирный вопрос в Николаевске оставался острым до середины 30-х годов прошлого столетия.
Ну а теперь давайте ознакомимся с тем, что потерял город у устья Амура в результате тряпицынской акции. В этот перечень я не включил военные объекты, так же уничтоженные 30 мая — 3 июня 1920 г., — Николаевская крепость, военный порт, военная телефонная и телеграфная станции, штаб крепости, интендантство, казармы, офицерское собрание и многое другое. Кроме того, в этот список не вошло 35 зданий (по одним данным эта цифра равнялась 22, по другим — 33) жилых и служебных, сожженных с обеих сторон во время ликвидации японского выступления 12—17 марта 1920 г. (дом Небеля, квартал Симадьи, японское консульство и т. д.). В нем фигурируют только те здания и объекты, которые сохранились до момента уничтожения города, — производственные, служебные и учебные постройки, жилые дома и т. д. В период тряпицынщины часть из них была закрыта или использовалась для других целей. Но сами постройки до 30 мая еще оставались целыми. В приведенном перечне я объединил уничтоженные строения и объекты по их назначению, а не принадлежности — например, портовская больница отнесена к разделу «Медицинские учреждения», а портовская телефонная станция — к разделу «Связь» и т. д. Те же учреждения, которые не имели своих зданий, а арендовали или располагались в административных или общественных зданиях города (учебные и медицинские учреждения, различные общества, комитеты, кружки, присутствия, участки, агентства, бюро и т. п.), я тоже не включил в перечень уничтоженных зданий, хотя сами эти учреждения и общества так же исчезли с уничтожением города. Не включены в этот список представительства и конторы в Николаевске рыбо- и золотопромышленников и их компаний, т. к. они располагались или в арендуемых зданиях, или в тех же домах, где жили эти промышленники.
Итак, начинаем...
------------------------------
Список административных, служебных, промышленных и жилых зданий г. Николаевска-на-Амуре, сожженных и взорванных по приказу Тряпицынского военревштаба 30 мая —3 июня 1920 г.
I. Правительственные, административные, правоохранительные, кооперативные и другие служебные постройки
1. Резиденция и канцелярия сахалинского губернатора — сожжены.
2. Городская дума и городская управа (двухэтажное деревянное здание) — сожжено.
3. Окружной суд и прокуратура (двухэтажное кирпичное здание) — взорвано.
4. Городское уездное управление полиции — сожжено.
5. Уездное воинское присутствие — сожжено.
6. Управление Приморского горного округа — сожжено.
7. Управление переселенческой организации — сожжено.
8. Управление Союза Усть-Амурских кооперативов — сожжено.
9. Контора Центросоюза — сожжена.
10. Контора «Закупсбыта» — сожжена.
11. Управление Сахалинской областной земской управы — сожжено.
12. Лесничество — сожжено.
13. Рыбнадзор — сожжен.
14. Таможня — сожжена.
15. Ветеринарный пункт - сожжен.
16. Китайское консульство — сожжено.
II. Кредитно-финансовые учреждения
1. Государственное казначейство (первое в городе кирпичное здание) — взорвано.
2. Городской банк — сожжен.
3. Управление Общества взаимного кредита — сожжено.
4. Отделение Государственного банка — сожжено.
5. Отделение Сибирского банка — сожжено.
6. Отделение Русско-азиатского банка — сожжено.
7. Отделение Московского народного банка — сожжено.
8. Государственные сберкассы (2 единицы) — сожжены.
9. Государственная золотосплавочная лаборатория — сожжена.
10. Золотосплавочная лаборатория Русско-азиатского банка — взорвана.
III. Учреждения народного образования
1. Реальное училище - взорвано.
2. Женская гимназия - сожжена.
3. Вышеначальное училище — сожжено.
4. Городское женское училище — сожжено.
5. Начальное училище имени Н.В. Гоголя — сожжено.
6. Пьянковское народное училище — сожжено.
7. Церковно-приходская школа — сожжена.
8. Детский приют — сожжен.
IV. Учреждения культуры
1. Кинотеатр «Модерн» — сожжен.
2. Кинотеатр «Прогресс» — сожжен.
З. Книжный магазин Кузнецова — сожжен.
4. Типография и редакция газеты «Восточное Поморье» — сожжена.
5. Типография Штыхмана сожжена.
6. Общественное собрание — сожжено.
7. Народный дом — сожжен.
8. Городская публичная библиотека — сожжена.
9. Бесплатная библиотека-читальня при Обществе содействия народному образованию — сожжена.
10. Общества по интересам, имеющие свои отдельные здания (6 единиц) — сожжены.
11. Фотографии (З единицы) — сожжены.
V. Медицинские учреждения
1. Городская больница - сожжена.
2. Гражданская (уездная) больница — сожжена.
З. Лечебница противотуберкулезной лиги — сожжена.
4. Аптека городская — сожжена.
5. Аптека «ТД Кунст и Альберс» — сожжена.
6. Аптека Демьяненко — сожжена.
7. Больница морпорта (двухэтажное деревянное здание) — сожжена.
8. Городская богадельня (дом престарелых) — сожжена.
VI. Служба быта
1. Гостиница Кузнецовых — сожжена.
2. «Номера» Кузнецовых — сожжены.
З. Постоялые дворы (З единицы) — сожжены.
4. Бани (7 единиц) — сожжены
5. Парикмахерские (4 единицы) - сожжены.
6. Прачечные (16 единиц) - сожжены.
VII. Предприятия общественного питания
1. Ресторан — сожжен
2. Кафе «Модерн» - сожжено.
З. Кафе — сожжено.
4. Трактиры (2 единицы) — сожжены.
5. Пивные лавки (15 единиц) — сожжены.
6. Столовая Общества трезвости — сожжена.
VIII. Торговля
Магазины универсальные, промышленные и продовольственные (среди них двухэтажные универмаги торговых домов «Кунст и Альберс», «П. Симада» и другие. Всего 40 единиц) - сожжены.
ИХ. Культовые сооружения
1. Недостроенный Градо-Приморский собор - взорван.
2. Церковь при кладбище - сожжена.
З. Еврейская синагога - сожжена.
4. Молитвенный дом евангельских христиан — сожжен.
5. Старообрядческие часовни (2 единицы) — сожжены.
6. Буддийская кумирня - сожжена.
Х. Жилой фонд г. Николаевска
На первое января 1920 г. из 2107 построек в городе 1200 зданий были жилыми (1179 — деревянные, 17 — каменные и 4 полукаменные), принадлежавшими отдельным государственным ведомствам (морпорт, золотосплавка, радиостанция и т. д.), торговым и промышленным фирмам и, в основном, частным лицам.
На момент разрушения города (30 мая 1920 г.) в нем насчитывалось 1165 жилых домов. Конечно, не все дома в этом списке были равнозначными. Достаточно сравнить двухэтажный жилой дом рыбопромышленника Люри со своей котельной, водяным отоплением и водопроводом с какой-нибудь полуразвалившейся хижиной жителя «китайской слободки», чтобы увидеть огромную разницу между ними. Однако и тот и другой дома являлись среднестатистическими единицами и входили в общий реестр городского жилищного фонда. Хотя надо отметить, что подавляющая часть жилых построек в Николаевске тех лет состояла из добротных одноэтажных деревянных рубленых домов с печным отоплением, рассчитанных на семью от 5 до 10 человек.
Из 1165 жилых построек разных типов 21 здание (каменные и полукаменные) было взорвано, сожжено 1109 деревянных, т. е. всего было уничтожено 1130 жилых домов, это почти 97% всего жилого фонда Николаевска.
ХI. Хозяйственные объекты г. Николаевска
А. По обработке металлов:
1. Механические мастерские морпорта с цехами — механическим, слесарным, токарным, литейным, кузнечным и т. д. (кирпичное здание общей площадью 911 м — взорваны.
2. Механическая мастерская (по документам числится как механический завод) П.Н. Симады с цехами — механическим, токарным, литейным, кузнечным и т. д. — взорвана.
3. Механическая мастерская (завод) Суходольского и Федулина, аналогичная заводу Симады, взорвана.
4. Паровая кузница Огиенко — взорвана.
5. Кустарные и ремесленные мастерские (механические, кузнечные, слесарные, оружейные, жестяные и т. п. Всего 27 единиц) сожжены.
Б. По обработке дерева:
1. Лесопильно-бочарный и деревообделочный завод Рубинштейна — взорван и сожжен.
2. Паровой лесопильный завод Филиппова — взорван и сожжен.
3. Паровой лесопильный завод бр. Бермант — взорван и сожжен.
4. Бондарная мастерская Дельнова — сожжена.
5. Бондарная мастерская Ширяева - сожжена.
6. Столярная мастерская морпорта — сожжена.
7. Плотницкая мастерская морпорта - сожжена.
8. Мелкие бондарные мастерские (13 единиц) — сожжены.
9. Столярно-лодочные мастерские (14 единиц) — сожжены.
В. По изготовлению кирпича:
1. Кирпичный завод Григоренко — взорван и сожжен.
2. Кирпичный завод Вавилова — взорван и сожжен.
3. Кирпичный завод «Ильина и К — взорван и сожжен.
Г. Пивоваренные и мыловаренные заводы (4 единицы) сожжены.
Д. Транспорт:
1. Морской порт:
а) служебные постройки (среди них 2 деревянных двухэтажных здания управления порта и работами порта. Всего 10 единиц) — сожжены;
б) гидротехнические сооружения (3 единицы — морская пристань на молу, свайные пристани на молу и м. Кошка общей площадью 550 м2 — взорваны и сожжены;
в) складские помещения (4 единицы) — сожжены
г) плавсредства (среди них буксирные катера «Лангр» и «Лазарев», 2 плавучих крана в 35 и 80 тонн и др. Всего 30 единиц) — взорваны и затоплены
д) водолазная станция со своим помещением, имуществом и водолазным моторным ботом взорвана и сожжена;
е) лоцмейстерская часть с метеостанцией — взорвана и сожжена.
2. Амурское пароходство:
а) контора Амурского пароходства — сожжена.
3. Речные пристани и складские помещения, принадлежащие ведомствам, торговым фирмам и частным лицам:
а) 9 пакгаузов частных лиц — сожжены;
б) пристань Амурского общества пароходства и торговли с 5 пакгаузами — взорвана и сожжена;
в) пристань Алексеева с 2 пакгаузами взорвана и сожжена;
г) городская пристань — сожжена;
д) пристань Чурина с одним пакгаузом — взорвана;
е) пристань морского ведомства — взорвана;
ж) пристань «ТД Кунст и Альберс» — сожжена.
4. Агентства и конторы дальневосточных и заграничных пароходств, имеющих свои здания (4 единицы) — сожжены.
Е. Энергетика Николаевска:
1. Городская электростанция (кирпичное 1 ,5-этажное здание) — взорвано.
2. Электростанция морпорта (кирпичное здание) — взорвано.
3. Электросеть (несколько сот столбов) — сожжены.
Ж. Связь:
1. Главпочтамт (почта и телеграф) — сожжен.
2. Телеграфная станция — сожжена.
3. Городская телефонная станция — сожжена.
4. Телефонная станция морского порта — сожжена.
5. Радиотелеграфная станция (радиостанция) — взорвана и сожжена.
6. Телефонные и телеграфные линии (городские и морпорта) — сожжены.
З. Городское хозяйство:
1. Тротуары, мосты, переезды, заборы (несколько сот километров) - сожжены
2. Уличное освещение (примерно 300 столбов) — сожжены.
3. Городской ассенизационный обоз (лошади) реквизирован: ассенизационные летние и зимние повозки — сожжены.
И. Противопожарная охрана:
1. Здание городской пожарной охраны с каланчой — сожжено.
2. Пожарный обоз (лошади) реквизирован; пожарные летние и зимние повозки, пожарные котлы, насосы, шланги и т. д. — сожжены
3. Грузовой пожарный автомобиль — сожжен.
4. Здание пожарной охраны морского порта — сожжено.
5. Пожарный обоз морпорта (лошади) — реквизирован; обоз и имущество — сожжены.
6. Грузовой пожарный автомобиль морпорта — сожжен.
7. Моторный баркас морпорта с пожарными принадлежностями (моторными насосами, гидропультом и пр.) — взорван и затоплен.
Список селений, приисков, рыбных промыслов, промышленных объектов, прилегающих к Николаевску и уничтоженных полностью или частично по приказу Николаевского военревштаба
1. Селения: Сергеевское, Каменское, Половинка, Красное, Малый Амурчик, Власьево, Зубаревская Падь, Константиновка, Сахаровка, Иннокентьевка, Кахтинская бухта, Рождественское, Покровское.
2. Городские рыболовецкие и засольные участки (около 50).
З. Рыбные промыслы: мыс Малый Чхиль, мыс Большой Чхиль, Чардбах, Тнейвах, Оремиф, Озерпах, Петах, Пуир, Вассе.
4. Золотые прииски: Александровский, Благодатный, Покровский, Сретенский.
5. Резиденция Чля. Сожжена электростанция и взорваны две драги — паровая и электрическая.
Вот и подошел к концу этот скорбный список зданий и объектов, что были когда-то в нашем городе и районе. Впоследствии, в 20—30-е годы сотни миллионов рублей были затрачены на восстановление старого города и его инфраструктуры. Но это уже был совсем новый город...
За много лет мне не раз приходилось посещать старые дальневосточные города (Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и др.). И всегда меня удивляли и даже поражали старые деревянные здания-теремки с резными карнизами, наличниками, ставнями, особенно их много в Благовещенске, и красивые неповторимые кирпичные постройки. Все это в наши дни создает в городах своеобразную, только им присущую ауру. К сожалению, такая аура у старого приамурского города в устье великой реки исчезла вместе с его уничтожением в мае-июне 1920 года...
22.07.2006
Наука, История, Образование, СМИ, Лёвкин Григорий Григорьевич

 Индекс
Индекс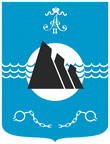
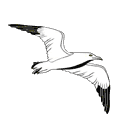



http://aleksandrovsk-sakh.ru/n
http://aleksandrovsk-sakh.ru/node/2981
На нашем сайте хотелось бы прочитать материалы о роли САХАЛИНСКИХ партизан Кузьмы Кондрашкина в армии Я.Тряпицына. Встречал только, что они были инициаторами "свержения" Тряпицына (у Юзефова -сахалинский взвод т.е. несколько десятков человек), а у его победителя И.Т. Андреева была интересная САХАЛИНСКАЯ биография...
" 16 марта 1920 года на съезде Советов Сахалинской области Андреев был избран членом исполкома и первым начальником милиции Сахалинской области. С этого мо-мента начинается борьба Андреева с осужденным большевиками анархистом Тряпицыным. Борьба эта заканчивается 9 июля 1920 года расстрелом Тряпицына и его сторон-ников. В приговоре суда 103-х (такое количество членов суда) под преседательством командующего войсками Андреева говорилось – за беспричинные аресты и расстрел мирных жителей, за саботаж решений Центра о создании буферного государства, и, между прочим, за расстрел плененного японского гарнизона.
Но для Сахалина, занятого японцами, было уже поздно. А начальник милиции и член исполкома Сахалинской области проявить себя в этом качестве не мог". Это я писал лет пять назад по мотивам статьи об Андрееве в Вестнике Сахалинского музея...